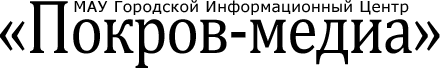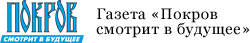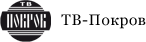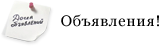За сорок с лишним лет работы водителем, Матвей Терентьевич Голубев на чём только не ездил. В начале шестидесятых, когда он сразу после армии пришёл на автобазу, его посадили на ГАЗ, потом довелось работать и на ЗИЛе, и на МАЗе… А в восемьдесят втором Голубеву, как одному из передовиков, достался новенький КАМАЗ, пригнанный прямо с завода.
Грузовик свой Матвей Терентьевич, что называется, лелеял и холил. Даже имя ему придумал — «Фёдор» — и самолично вывел его на борту белой краской. Ну, конечно, двигатель, у Фёдора всегда был в полном ажуре и прочие агрегаты тоже. В кабине висели занавески и картинки, вырезанные из журналов. «Ты прямо Третьяковскую галерею у себя завёл! — одобрительно посмеивалось начальство, а Голубев, в ответ улыбался, поглаживая Фёдора по баранке, оплетённой цветными проволочками.
И то сказать — если человек по три недели в месяц в рейсе — должен же его окружать хоть какой-то уют!
А вот дома у Матвея Терентьевича в смысле уюта было плоховато. Ведь домашний уют — это женская забота, а Голубев так и остался холостым. По молодости он был парнем видным и женщинам нравился, но смириться с его постоянными отлучками не смогла ни одна.
Жил он на окраине, в бревенчатом доме, оставшемся после рано умерших родителей. Дом состоял из горницы и кухни; мебель была старая и разномастная, а в огороде росли две-три яблони, да кусты крыжовника вдоль забора. С крыльца открывался вид на текущую невдалеке реку и луга на том берегу, и, когда Голубев, во время своих редких приездов, выходил покурить, его неизменно снова тянуло в путь. «У тебя, гляди, уж седина в голове, и, вон сгорбился весь, а всё одно на уме — как бы из дому смыться!» — бросила на прощанье Голубеву последняя его подруга, с которой они чуть было не дошли до загса. Порой, во время длинных перегонов, Матвею Терентьевичу приходили на ум эти её слова. » Ну, что поделаешь, — говорил он Фёдору, — если мы с тобой дорогу любим», а Фёдор ничего не отвечал, но, судя по всему, был с ним согласен.
В дальнобойщиках Матвей Терентьевич пребывал до шестидесяти, а потом за пределы области его посылать перестали. Да и вообще наступили новые времена, и на автобазе начались перемены. Сначала они шли ни шатко, ни валко и в основном касались мелочей, но с уходом на пенсию старого директора начали набирать обороты.
Новый директор — молодой и спортивный — недавно возвратился из-за границы, где был на стажировке. Вскоре повсюду начался ремонт, а в обиход вошло выражение «коммерческая целесообразность»… В гараже появились грузовики известной во всём мире марки, среди которых старенький Фёдор выглядел довольно жалко.
Теперь дважды в неделю учительница английского обучала водителей разговорному языку на случай зарубежных командировок. Была она высокой, стройной и носила очень короткие юбки, что, конечно, отвлекало слушателей от постижения тонкостей произношения.
На эти занятия Матвей Терентьевич, понятное дело, не ходил. Какой уж тут английский, если того гляди, выгонят — ведь с пенсионерами теперь не церемонились. «Турнут нас с тобой Фёдор, как пить дать, турнут! Не сегодня, так завтра! Многие из наших уже — того… на приколе…» — качал головой Голубев, каждый раз возвращаясь из рейса, а Фёдор тяжело вздыхал взбираясь на подъёмы.
Что он будет делать, когда тоже окажется «на приколе», Матвей Терентьевич не представлял, и, честно говоря, старался об этом не думать. Но вот однажды, в хмурый сентябрьский день его вызвали в дирекцию.
Ничего хорошего это не предвещало — говорили, что директор считает своим долгом беседовать с каждым пенсионером перед тем, как его уволить. Подъехав к трехэтажному зданию конторы, Голубев некоторое время помедлил на крыльце, переминаясь с ноги на ногу. Фёдор стоял неподалеку, струйки дождя стекали по его лобовому стеклу, и Матвею Терентьевичу показалось, что он плачет.
После ремонта Голубев был здесь впервые. Стены, прежде окрашенные в серые казённые тона, сверкали пластиком, а в директорской приёмной вместо диванов, затёртых шоферскими телогрейками, стояла изящная мебель. Стол со стеклянной столешницей казался очень хрупким, под стать сидевшей за ним молоденькой секретарше, на лице которой застыло безразлично-приветливое выражение. Она сообщила Матвею Терентьевичу, что директор примет его через несколько минут и снова запорхала по клавишам компьютера.
Раньше здесь хозяйничала Мария Карповна — пожилая, полная, громкоголосая, не стеснявшаяся в выражениях и всё про всех знавшая… Водители её побаивались и за глаза называли мегерой, но теперешнее воспоминание о ней было неожиданно тёплым.
Вскоре Голубева пригласили в кабинет.
— Вы, значит, с шестьдесят третьего здесь работаете? — спросил директор, полистав личное дело Матвея Терентьевича, и вдруг улыбнулся, — а я тогда ещё не родился!
Он отложил в сторону папку и поинтересовался:
— Выходит, вам уже шестьдесят шесть?
— Шестьдесят пять с половиной, — сглотнул слюну Голубев.
— Тяжеловато, наверно, за рулём?
— Да нет, пока ничего, — ответил Матвей Терентьевич, стараясь придать голосу как можно более бодрые интонации.
Зазвонил телефон. Директор поговорил с кем-то, прошёлся по кабинету и снова уселся напротив Голубева.
— Ну, как вам реформы наши?
— Впечатляют!
— Вот и смотрите, — вплотную подобрался к сути дела директор, — планы у нас большие, свежие силы нужны, а тут, как назло — кризис! А при кризисе, сами понимаете, сокращения неизбежны.
«Приехали!» — тоскливо подумал Матвей Терентьевич. Сквозь оконное стекло видна была тяжёлая лиловая туча, висящая над соседним корпусом.
— Вас, заслуженного ветерана, мы, конечно, оставили бы, — снова заговорил директор, — но, обстоятельства превыше нас!
«Наверно, он всем это говорит!» — подумал Голубев, а вслух сказал:
— Товарищ директор, я ведь всю жизнь на колёсах, не могу по-другому!
Директор чуть заметно поморщился при слове «товарищ» и развёл руками — дескать, ничего не поделаешь!
— А с Фёдором моим как же?
— С каким Фёдором? — поднял было брови директор, но тут же вспомнил:
— Это Вы свой автомобиль так называете, верно? Мне говорили…
И, пожав плечами, сказал:
— В утиль, конечно, куда ж ещё! Больше двадцати лет машине!
— Да вы что — почти выкрикнул Голубев, — как это — в утиль!
Мысль о том, что его Фёдора, знакомого до последнего винтика, безжалостно разрежут на части, была невыносимой! Перед глазами пошли разноцветные круги, в ушах зашумело. Наверно, он на какое-то мгновение потерял сознание, потому что рядом вдруг очутилась секретарша со стаканом воды, пахнущей какими-то каплями. Матвей Терентьевич проглотил лекарство и несколько минут просидел молча, с закрытыми глазами.
— Может, скорую вызвать? — участливо спросил директор.
— Ничего, проходит уже…
— Хотите, Вас домой отвезут? Я распоряжусь…
Голубев в упор посмотрел на директора и сказал:
— Раз вы Фёдора всё равно списывать собрались — отдайте его мне!
— Как это — «отдайте», — хмыкнул директор, — Существует же отчётность…
И вдруг предложил:
— Вот продать можем, ну, скажем, по цене металлолома.
В ответ Матвей Терентьевич молча кивнул. Секретарша, которая всё ещё стояла с пустым стаканом в руках, удивлённо на него посмотрела.
— А не передумаете? — спросил директор.
Матвей Терентьевич покачал головой и попытался прикинуть — хватит ли у него сбережений…
Через несколько дней все вопросы, связанные с оформлением, были улажены. Правда, денег у Голубева всё же не хватило, но директор разрешил снизить цену — как-никак старый сотрудник. Грузовик напоследок вымыли и заправили, и Матвей Терентьевич медленно поехал к воротам, по привычке разговаривая с Фёдором.
— Сдурели они совсем — такую машину в утиль! Да мы с тобой ещё ездить будем, не хуже других…
У ворот дежурил Сенька — парень лет двадцати.
— Слышь, Терентьич, — ухмыльнулся он, — ты, говорят, этот драндулет на последние бабки купил?
— Не болтай, открывай, давай!
Створка ворот медленно поползла в сторону.
— Нет, ты скажи, — не унимался Сенька, — на фига он тебе, что ты с ним делать будешь?
«И в самом деле — что?» — впервые за эти дни подумал Матвей Терентьевич, но тут же прогнал эту мысль. Ведь он сидел за рулём своего Фёдора, а впереди лежала дорога, и поэтому думать ни о чём другом ему не хотелось…
Б. Аронов