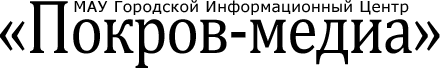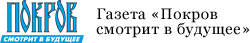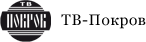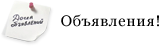Когда в восемьдесят втором году я окончил восьмой класс, мои родители, решив, что «ребёнку нужно обязательно отдохнуть на море», попытались достать путёвку в «Артек» или другой подобный лагерь. Однако, успехом эти попытки не увенчались, и меня отправили в гости к тёте Тасе — незамужней двоюродной сестре отца, которая жила в маленьком приморском посёлке неподалеку от Херсона.
В ту пору ей было около пятидесяти. Высокая, полная, добродушная она работала бухгалтером в рыболовецком колхозе (кстати, к этому колхозу имело отношение почти всё взрослое население посёлка). Возле дощатого пирса покачивалось на волнах несколько шаланд — местный рыболовный флот…
Погоды стояли великолепные. Красный шар солнца каждое утро появлялся из-за края степи, поднимаясь в зенит, раскалялся добела, а вечером скатывался на запад и разгорячено окунался в море у горизонта. Широкие песчаные пляжи были не хуже, чем на каком-нибудь курорте, правда, этим сходство с курортом и ограничивалось. Посёлок состоял из двух-трёх десятков одноэтажных белёных домиков, окружённых густой зеленью, одноэтажных же магазина, клуба и колхозной конторы.
Дни были наполнены шумом прибоя, криками чаек и тугим степным ветром. Ближе к вечеру ветер стихал, и, когда мы с тёткой ужинали на веранде, напоминал о себе лишь шелестом листьев растущих возле дома тополей. С улицы доносилось мычание возвращающегося из степи стада…
Но деревенскую тишину нарушали не только эти звуки.
— Ах ты, сволочь, ах ты, паразит, опять нажрался! — услышал я в первый же день после приезда визгливый женский голос за соседским забором, — да чтоб тебя, скотину, черти взяли!
В ответ послышалась мужская невнятная ругань.
— Люся своего чихвостит, — пояснила тётя Тася, придвигая мне тарелку с клубникой, — он это дело ой как любит!
И тётка красноречиво щёлкнула пальцем по шее.
А женский голос не умолкал:
— Вы посмотрите, люди добрые, на этого дурака! У всех мужья как мужья, у меня одной алкоголик!
И дальше в том же духе. Крики становились всё громче и громче, и вдруг стихли.
— Пойти посмотреть, как бы Люсе плохо не стало, — забеспокоилась тётя Тася, — врачи говорят — сердце у ней слабое!
Её опасения были не напрасными. Оказавшись на соседнем участке, мы увидели на скамейке возле дома худую востроносую очень бледную женщину лет сорока. Она сидела, прижав руки к груди, и часто дышала…
— Что ж ты, Иван, жену до приступа доводишь, — покачала головой тётя Тася, капая в стакан принесённые с собой капли.
— Да придуряется она…на жалость давит, — послышался пьяный голос, и, проследив глазами, я увидел около сарая на куче какого-то тряпья мужчину средних лет с багровой физиономией. Чересчур порывистыми жестами он отмахивался от мух и временами икал.
— Вот помру я — будешь знать! — с трудом пересиливая одышку проговорила его жена.
— Нашла чем напугать! — икнул Иван…- помрёшь — я и хоронить тебя не пойду…свечку…в-о-о-т такую поставлю … и скажу…ну, слава Богу, отмучился!
— Типун тебе на язык! — всплеснула руками тётя Тася.
— А чего, — не унимался Иван, — я…чтоб ты знала, … мужик самостоятельный… как сказал, так и сделаю…
Он высморкался в пальцы, и, покачиваясь, скрылся в сарае.
— Охламон, он и есть охламон! — вздохнула тётка, — Люсь, лучше тебе?
— Точно в могилу меня сведёт, — всхлипнула в ответ соседка, — двадцать лет живём, а он всё такой!
— Ну и гони его к ядрёной фене!
— Да ведь пропадёт без меня. Сколько раз с работы его увольняли, а я бегала-просила, чтоб назад взяли…и вообще…
Она махнула рукой, с трудом поднялась и поплелась к дому.
Мы тоже возвратились к себе.
— И мужик-то он вроде неплохой, когда трезвый, — вздохнула тётя Тася, ставя на плиту чайник, — а как выпьет — так скандал…И Люся тоже дурит — не цеплять бы ей Ваньку пьяного, а то ведь сама на рожон лезет!
— Так всегда и ругаются?
— Ругаются, — кивнула тётка, — всю жизнь!
И добавила:
— Вдвоем живут, ребятишек нет — и почти каждый день лай!
У тёти Таси я гостил почти до осени. Напоследок она снабдила меня таким количеством фруктов из своего сада, что разместить их в купе оказалось довольно сложной задачей.
В начале ноября тётку послали в командировку в наши края, и она на денёк заглянула к нам. Родители были на работе; я встретил её на вокзале и, пока мы ехали в трамвае, тётя Тася просвещала меня на предмет поселковых новостей.
— Люсю, соседку мою, помнишь? — поинтересовалась она, и, когда я кивнул, вздохнула, — померла она месяц назад!
И, не дожидаясь моих вопросов, принялась рассказывать:
— Крепко полаялись они в тот день с Иваном…он в сарай ушёл… небось, ещё поддал, и спать завалился…А ей, поди, совсем худо стало, она, может, и звала его, а он, видать, не слышал…Так и нашли её утром…Ивана-то насилу растолкали, чтоб сказать…
— Ну и что же, не пошёл он жену хоронить? — спросил я, памятуя Ивановы речи, неоднократно слышанные летом.
— Какое там! За гробом брёл чернее тучи. И до сих пор — сам не свой. И удивительное дело — трезвый! Даже на поминках ни капли не выпил.
Тётя Тася помолчала немного и заключила:
— Но всё равно ведь сопьётся, пропадёт! Такой разве за ум возьмётся?
С тех пор прошло двадцать два года. С тёткой мы больше не виделись, хотя с праздниками поздравлять друг друга не забывали.
Этим летом мы с дочкой (ей уже двенадцать) отдыхали в одном из одесских санаториев и решили на денёк-другой съездить к тёте Тасе. Добираться пришлось целый день на двух автобусах. Дочка, устав с дороги, сразу после ужина ушла спать, а мы с тёткой пили чай на веранде, как когда-то давным-давно…Ночные бабочки с разлёту ударялись о жестяной колпак висячей лампы, сверчки заливались в траве, пахло ночными фиалками…
Тётка до сих пор ещё работала бухгалтером, правда, их колхоз назывался теперь по-новому — ООО «РЫБАК».
— И шхуна у нас теперь новая, не то что те шаланды, — похвасталась она, а капитаном на ней — кто бы ты думал — Иван!
— Что за Иван?
— Ну, сосед мой — неужели забыл?
— Это алкаш тот, что ли?
— Был алкаш, а нынче — Иван Петрович! Он ведь в мореходке ещё по молодости выучился…Солидный теперь стал — куда там! И не пьёт… уже больше двадцати лет не пьёт, с тех пор, как Люсю схоронили. Он и шхуну эту для нас добыл и сам ей имя дал…
Последние слова тётка произнесла с какой-то неожиданной и непонятной грустью.
— Какое имя, тетя Тася?
— А вот завтра сам увидишь. На море-то утром пойдёте?
После завтрака мы с дочкой отправились на пляж. Новую шхуну я увидел ещё издалека. Она покачивалась у причала на том самом месте, где прежде стояли шаланды, и по сравнению с ними выглядела просто замечательно. Когда мы подошли поближе, стало видно название. «ЛЮСЕНЬКА» — было выведено на борту красной краской.
— Пап, а почему корабль так странно называется, — дёрнула меня за рукав дочь, и, пожав плечами, произнесла, — Люсенька?
— Так жену капитана звали.
— Да-а-а, — протянула она с нотками просыпающегося интереса, — а теперь она где?
— Давно умерла.
— А отчего?
— Не знаю, — ответил я, решив не вдаваться в подробности.
— Они, наверно, любили друг друга очень-очень, — возбуждённо заговорила дочь, — а он в море уплыл и пропал …ну, там буря налетела и всё такое, … а она на причале ждала-ждала, заболела и умерла от горя!
Дочка пошмыгала носом, прогоняя набежавшие слезинки.
— А он возвратился, — снова заговорила она дрожащим голосом, — горевал-горевал, а потом корабль построил и в честь неё назвал! Наверно, так всё и было, да, папка?
Борис Аронов